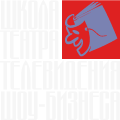Маленький чёрный зальчик. Режиссёр-дебютант.
Постановка начинается с бега. Заканчивается - звенящей тишиной. 1863-й. До постмодерна и «Беги, Лола, беги» ещё жить и жить. А Дмитрий Оленин уже всё понял. Понял: некуда бежать. Незачем. От себя – уж точно.
Пространство сцены сужено до полосы составленных друг с другом деревянных ящиков; образовавшаяся рельефная линия пересекает зал по диагонали. Роль этих ящиков – может быть самая неоднозначная деталь постановки. По форме (да и по контексту) они более всего напоминают мост: между светской Москвой и казачьей станицей, между ложью и истиной, между несвободой и – свободой, что вполне логично. Но жизнь героев, в отличие от сценического пространства, нельзя сжать до одной плоскости. Сцена неминуемо приобретает объем: из ящиков извлекается немыслимое количество предметов, на них дерутся, на них спят, в них кидают ножи, из них же в финале складывается гроб. Что ещё скрыто в них (как в деревянном ли ящике, как в символе) – вопрос.
Есть даже что-то трагическое в таком безбожно ограниченном пространстве. С этих коробок главному герою никуда не деться: с одной стороны на него ещё в первую минуту выглянула московская жизнь (стайка густо напудренных дам в бальных платьях, живо-жеманно обсуждающих его отъезд), с другой, казалось бы, настоящая любовь – Марьяна (Лидия Шевченко), настоящая жизнь, настоящее счастье. Но Оленин оказался заперт в своем переходном состоянии. Мост этот ему не перейти, потому что пролегает он в первую очередь в сознании самого героя.
Обусловлено это ещё и моментом определённого «развоплощения», «рассеивания» идиллических представлений, с которыми главный герой связывал жизнь на Кавказе. Конечно никакого «рая» он там не находит. Да и критерии измерения «настоящего» оказываются отдельной темой для размышлений. Любимая им Марьяна в своей красоте и прелести проста, естественная, безыскуственна. Но всё-таки бесконечно далека – духовно, этнически, ментально. Может быть эту «далекость» от осточертевшего ему светского жеманства, эту кажущуюся простоту и легкость Оленин в ней и полюбил. Но хорошо там, где нас нет, а Марьяна – не ангел божий, какой её видит (хочет видеть) главный герой, скорее – девушка другого сознания, другого уровня близости к природе и уж точно другого уровня искренности… В некотором смысле образ её – очень по-толстовски заданный вопрос о том, насколько верно и правильно брать в жёны безусловно прекрасную женщину, которая, при всех своих достоинствах, едва ли понимает твои «мудреные» разговоры и едва ли желает (да и может тоже – едва ли) принимать в них участие.
Своеобразным «голосом истины» и в то же время предвестником смерти в спектакле становится Немая (Софья Никифорова). Её способность говорить – само по себе уже метафора. Немая существует в своей, отстраненной от мирского, реальности, существование которой обозначено на уровне полу-звуков, полу-слов, лейтмотивов и контрапунктов. Простое, чуть ли не ситцевое платьице, тонкие косы и странно-потерянное выражение лица – только тень, пусть сама она, может быть, самая настоящая и самая прекрасная из всех появляющихся на сцене лиц. Неслучайно именно Немой режиссёром перепоручается чтение фрагментов авторского текста Толстого. Речь её – озвученный внутренний монолог, который не мог и не должен был быть услышан, мелодичный и мелодически выверенный. В нём и существует та самая «другая» жизнь, рай.
Во многом «Беглец» стал полем индивидуально-авторской работы для исполнителя главной роли Александра Крымова. Живо, громко и звучно вополощая простоту и радушие своего героя, актер сконцентрировал на себе практически весь энергетический ресурс постановки, став его чуть ли не центробежной (лошадиной) силой. В своём отчаянном поиске счастья он немного даже смешон, но всё-таки бесконечно мил. Со странновато подкрашенными в рыжий цвет волосами, Крымов циркулирует по всему пространству своего эмоционального диапазона, не теряя при этом лейтмотивного ощущения драматического «надлома», лежащего в основе совершенного им «побега». И разочарованным странником в финале, и нежно, искренне влюбленным в Марьяну поэтическим юношей, и непреклонным «соперником» на очной ставке с Лукашкой (Иван Батарев) – везде он, сохраняя непримиримый блеск в глазах, остаётся предельно прям и конкретен. Может быть даже слишком.
Куда менее конкретен, но куда более сложен оказывается характер Ерошки (нар. арт. Александр Сулимов) – проводника Оленина в мире казачьей станицы. Образ этот иронией пропитан, и из иронии состоит на всех уровнях своей организации. Абсолютно очарователен, мил и забавен в своих немного даже истерических интонациях слуга Оленина Ваня (Владислав Ставропольцев), будто бы выскочивший «из декадентского шоу начала века», как пишет один из критиков. Хотя обеих этих ролей стоит Марк Овчинников в образе Белецкого: вот кто уж точно не мучается сложными экзистенциальными вопросами, поисками счастья и декадентскими настроениями. Этакий добряк и бонвиван. В результате все они образуют некое фоновое звучание, с которым главный герой временами вступает в диалог, сам практически не уходя с «авансцены».
Другой «персонаж», задействованный в спектакле – пластиковый кулер для воды. Обычный такой, который привык стоять где-нибудь в гримерке, в углу. Только теперь он наполнился «вином» (точнее - клюквенным соком, почти мейерхольдовским) и вызывает ёрнический смех в зале. Впрочем, насмешка здесь была скорее со стороны создателей спектакля. Насмешка над стремлением к описанному ещё Золя «натурализму», отказ от традиционного использования предметов, обнаруживающих конкретную эпоху. Как будто бы от формы предмета для сока-вина зависит, будет ли зритель ощущать себя в так, как если бы он оказался в ХIХ-м веке или не будет. Как будто так важно поместить зрителя в ХIХ-й век.
«Натурализм» в другом: в тонкости отображения красоты, в запахе гор, в пестротканом полотне песен теркских казаков…
По своему наружному «крою» постановка выполнена тонко, почти бесшовно. Оболочка её не вызывает никаких концептуально значимых нареканий. И будь «Беглец» поставлен в студенческом, учебном театре – ни единого вопроса бы не прозвучало.
Но при всей ансамблевости работы ещё бутусовских актёров, которую Марина Дмитриевская, например, отмечает как однозначный «плюс», спектаклю не хватает серьезности, не хватает какого-то драматического драйва. Сузилось в театре не только сценическое пространство, сузилась и амплитуда возможной работы актёров. Эти, казалось бы, не связанные друг с другом вещи оказываются странно созвучны при внимательном рассмотрении.
Интонация всёупрощающей прямоты слышна уже в названии: «Беглец». Интерпретация эта имеет право на существование и определенно содержит в себе осмысленность и обдуманность выбора, но всё-таки ужасно сужает спектр возможных восприятий как произведения, так и самой постановки. Получается абсолютно волшебное для театра сочетание: по-толстовски прямолинейный, «лобовой» подход к описываемому (когда поле зрения автора сужается до одной прямой, пусть и за горизонт уходящей линии) + неполное, необъёмное и не очень-то оригинальное понимание прочитанного режиссёром. Вот только если Толстой в своей «прямоте» остается предельно точен и обстоятелен, то Айдар Заббаров…
То в спектакле Айддара Заббарова актерам оказалось тесно в собственных ролях, ролям оказалось тесно на пространстве сцены (не в физическом плане, конечно же) и всё это выросло в энергетически несоразмерную, несбалансированную постановку. Все метафоры приведены к предельной конкретике. Все смыслы сжаты до одного.
«Беглец» даёт зрителю гораздо больше вопросов, чем ответов: неумело сформулированных и невнятно произнесённых. Для дебютного спектакля такие недоработки (в общем-то смыслового характера) простительны: ведь и слышатся они только в остаточно-осадочном впечатлении, по прошествии времени. Юностью своих создателей спектакль пропитан на всех уровнях организации, что само по себе уже чертовски выразительно. Тоска становится светлой, элегической, трагедия укрывается под мелодией отзвуков и контрапунктов.
Несовершенный – да, недоосмысленный – да. Но очаровательный, нежный – до безумия…
Постановка начинается с бега. Заканчивается – звенящей тишиной.
Автор: Арканникова Алина